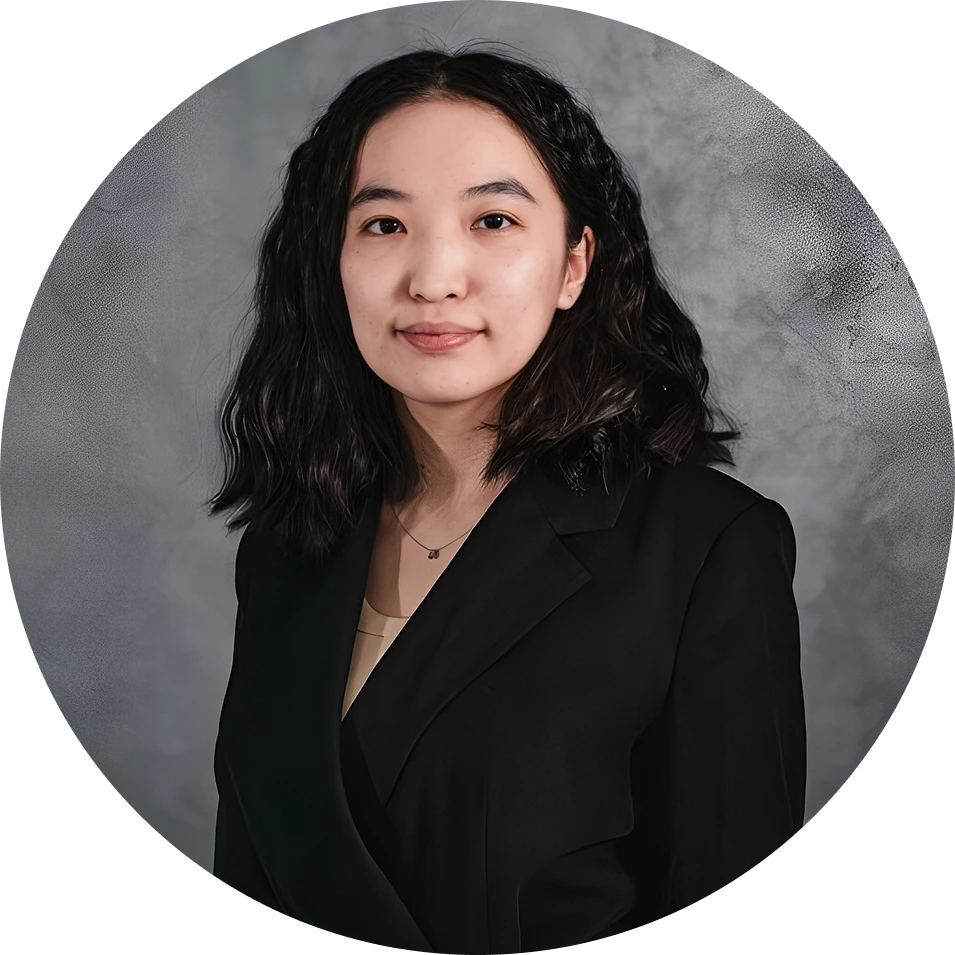«Я бы хотела быть «одной из многих», а не исключением»: казахстанки о том, каково быть женщиной в STEM
Когда я думаю о точных науках, будь то математика, физика, химия или информатика, я вспоминаю девочек из своих прошлых школ или подруг из университета. Не потому, что их было много. А потому, что именно они остались в моей памяти.
Например, Баян была богиней математики, и когда у меня возникали вопросы по формулам, я сразу бежала к ней. Акмарал знала химию и биологию так, будто это её два родных языка. А вот Айжан участвовала в олимпиадах по физике, писала научные проекты и в итоге поступила в Принстон. Помню ещё Айю, которая задачи по математике «щёлкала как семечки», как любили отмечать наши учителя. Больше всего я восхищалась и вдохновлялась Нурсауле, с которой познакомилась во время подготовки к олимпиаде по географии. Она обожала географию, и эта любовь однажды довела её до Канады, где она представляла Казахстан на международной олимпиаде по географии. Было классно видеть её на фотографиях оттуда, потому что обычно на этих фото почти всегда были только парни. И сейчас, если посмотреть на состав участников и победителей таких олимпиад, он всё ещё остаётся преимущественно мужским.
Но при этом я почти не помню, как звали всех этих мальчиков. Не потому, что их не было. А потому, что они в этой системе по умолчанию.
Уже в университете картина начала дополняться. Мои подруги – те самые, чьи имена я запомнила именно потому, что они были редким исключением в классах и на олимпиадах – стали рассказывать другие истории. О том, как мало девочек сидят у них в лекционных залах, как у них нет ни одной женщины среди преподавательского состава и как они снова и снова сталкиваются с фразами вроде «Кодить сложно же, ты, наверное, будешь менеджером». Ощущение исключительности, которое раньше звучало как восхищение, теперь отдавало одиночеством. Получалось, чтобы тебя заметили, нужно снова быть «первой», «уникальной», «доказавшей». И всё это в среде, где по умолчанию всё ещё мужчины.
В какой-то момент я поняла, что могу задать вопросы и услышать, каково это – быть внутри этой системы. Так я решила поговорить со своими подругами – Арной Аймышевой, магистранткой программы Erasmus Mundus по направлению Brain and Data Science, и Гульназ Жамбуловой, которая уже оканчивает первый год докторантуры в Линчёпингском университете в Швеции.
Уже год я – докторантка Линчёпингского университета в Швеции, в лаборатории компьютерного зрения. В прошлом году при лаборатории была создана новая исследовательская группа, которая занимается машинным обучением для задач дистанционного зондирования, и я стала одной из трёх новых студенток, кого приняли в команду.
Дистанционное зондирование – это способ получения информации о Земле или других объектах без физического контакта, например, с помощью спутников, беспилотников или авиации. Моё исследование посвящено анализу спутниковых изображений. Точнее – я работаю над объединением данных с разных сенсоров и спутников, чтобы получать более полную, точную и надёжную картину происходящего на планете. Чем больше у нас спутников, тем больше данных, и тем важнее становится автоматизация их анализа. Это помогает принимать решения быстрее, сокращать затраты на ручную обработку и поддерживать критически важные сферы – от экологии до продовольственной безопасности.


Что касается STEM, в эту сферу я пришла не сразу. В школе мне всегда нравилось решать задачи по математике. Но при этом я всерьёз интересовалась гуманитарными науками и в какой-то момент даже думала, что стану дипломатом. Всё изменилось ближе к 11-му классу, когда моя учительница по физике уговорила меня выбрать физику как профильный предмет ЕНТ. Просто потому, что с этим предметом было больше шансов поступить на грант. Даже когда я уже училась, я ещё долго выбирала между политологией и компьютерными науками. В какой-то момент я просто села и составила список за и против и выбрала IT. Потому что поняла, что эта сфера стремительно развивается и в ней у меня точно будет больше возможностей и стабильности.
В Швеции докторанты считаются и студентами, и младшими научными сотрудниками университета. Благодаря этому у нас есть двойные плюшки – мы получаем студенческие скидки, но при этом также зарабатываем (зарплата сопоставима со средней по стране). Плюс оплачиваемые отпускные и больничные дни. Докторская программа здесь длится пять лет – дольше, чем, например, в большинстве стран Европы. Это связано с тем, что один год формально отводится на преподавание. Рабочий график в лаборатории гибкий – каждый приходит и уходит, когда ему удобно, но наш руководитель за то, чтобы мы бывали в офисе почаще и обсуждали задачи, делились идеями и просто не чувствовали себя изолированными. Потому что исследовательская работа часто довольно индивидуальна.
Мои дни в лаборатории очень разные, и один день редко похож на другой. Иногда я целиком погружаюсь в исследование, иногда готовлюсь к дедлайнам по курсам или к семинару для магистрантов. А иногда целый день уходит на то, чтобы понять, почему модель внезапно сломалась. По четвергам у нас проходят встречи и совещания. А после обеда почти всегда бывает «фика» – шведская традиция совместного кофепития с булочками и беседами. Это правда помогает почувствовать себя частью команды и просто немного выдохнуть.
Это всё отражается не только в статистике, но и в ощущениях. Когда ты одна из немногих девушек в аудитории, постоянно чувствуешь на себе дополнительную нагрузку – вроде бы никто не говорил прямо, но молчаливое ожидание есть. Как будто ты должна быть не просто студенткой, а доказательством, что женщины здесь «тоже могут». И вот поэтому я бы хотела быть «одной из многих», а не исключением. Потому что быть исключением – тяжело. А ещё тяжелее – постоянно ощущать, что ты представляешь не только себя, но и всех женщин. Как будто ты несёшь коллективную ответственность и не имеешь права на ошибку. Нельзя задать «глупый» вопрос или нельзя открыто не согласиться. Становится страшно быть самой собой. Приходит ощущение одиночества. Потому что если никто вокруг не сталкивался с этим опытом, то твои откровения могут воспринять как слабость, что подтверждает стереотипы. Когда я поступила в докторантуру, со мной была ещё одна девушка. А через полгода к нам присоединились ещё две. И, как ни странно, это сразу изменило атмосферу. Мы начали делиться переживаниями и поддерживать друг друга. Их присутствие создало ощущение сообщества и поддержки.
Кстати, о поддержке: мне повезло с людьми, меня всегда поддерживали и продолжают поддерживать, и я очень это ценю. Хотя, конечно, родители, возможно, и предпочли бы внуков вместо ещё одного диплома (но это уже другая история). За свой первый год в докторантуре я убедилась, что поддержка действительно критически важна. Иногда просто необходимо, чтобы рядом был кто-то близкий – человек, которому можно довериться, выговориться и даже поплакать, особенно если эксперимент не работает уже в сто пятый раз. Мне важно, чтобы мои родные понимали, чем я занимаюсь, и хотя бы немного ориентировались в теме искусственного интеллекта. Поэтому я стараюсь объяснять максимально просто – примерно так же, как в ответе на первый вопрос. Не уверена, что они понимают всё до конца, но они точно знают, что я работаю с данными со спутников и ИИ, и гордятся этим.
А если говорить о том, кого я поддерживаю и с кем делюсь опытом – у меня был опыт менторства на Technovation, где я работала с командой из четырёх школьниц, и самой младшей было всего восемь лет. Это был совершенно новый для меня формат, и я быстро поняла, насколько непросто работать с детьми. Они искренние, любопытные, но требуют особого подхода, терпения и чёткой структуры. Один раз самая младшая просто не пришла на встречу, потому что увлеклась игрой на улице и забыла. Это напомнило мне, что они ещё совсем дети. Этот опыт я бы повторила, но, скорее всего, уже после специальной подготовки.
С магистрантами – совсем другая динамика. В этом семестре у меня был первый опыт преподавания, и мне повезло: мои студенты оказались очень самостоятельными и мотивированными. В Швеции, кстати, магистерские работы можно писать в парах, и я заметила, что они действительно поддерживают друг друга. Возможно, поэтому они довольно редко обращаются ко мне – обычно, когда сомневаются и не уверены в результатах или не знают, как лучше представить свой проект. В такие моменты я стараюсь напоминать им, что именно они – настоящие эксперты в своей теме.
Этот опыт помог мне осознать важную вещь – не обязательно знать всё и уметь ответить на каждый вопрос. Гораздо важнее быть рядом. Быть доступной. Создавать ощущение, что ты не один. Особенно в академической среде, где легко почувствовать себя потерянным или «не на своём месте». Мне действительно нравится преподавать и работать со студентами. Я хочу делиться знаниями и опытом, но сначала хочу немного подрасти как специалист, чтобы было что передавать и делать это уверенно и с пользой.
Если говорить о менторстве вне университета – у меня есть младшие сёстры и племянницы, но, честно говоря, пока я не замечала у них особого интереса к технологиям или ИИ. И мне не хочется навязывать им свои интересы только потому, что «нужно больше женщин в IT». Мне кажется, гораздо важнее, чтобы каждый нашёл своё и чувствовал на этом пути поддержку, а не давление.
А девочкам, которые хотят попасть в STEM, но боятся не потянуть, я бы сказала, что попробовать себя в любом случае стоит. Лучше дать себе шанс, чем потом жалеть, что не попробовала. Наука, будь это STEM или другие дисциплины, – это не про всезнающих людей, а про тех, кто умеет задавать вопросы, умеет учиться и умеет не сдаваться после неудач. Страх – это нормально. Я тоже боялась и до сих пор иногда сомневаюсь. Но со временем ты научишься разбираться, найдёшь свою тему, свой ритм и своих людей. И если тебе действительно интересно – значит, у тебя уже есть самое главное: мотивация. Всё остальное можно наработать.
Кажется, всё началось с того, что папа нашёл для меня школу физико-математического направления в Алматы. В начальных классах я была круглой отличницей, и мы с родителями подумали: почему бы не попробовать? Так я поступила в Республиканскую физико-математическую школу. В 10-м классе у нас появился кружок робототехники. Вместо настоящей лаборатории у нас была крошечная подсобка, где мы готовились к конкурсам, писали код для роботов, собирали их своими руками, заказывали запчасти откуда только могли. Мне очень нравился процесс того, как знания, которые долгое время были просто теорией, вдруг превращались во что-то настоящее и двигающееся.
Единственным местом, где была программа по робототехнике для бакалавриата, оказался Назарбаев Университет, поэтому я решила поступать в этот вуз. Получилось не сразу: меня сначала поставили в лист ожидания, и только за неделю до начала занятий я узнала, что принята. Первые два с половиной года учёбы я почти не занималась исследованиями, скорее пробовала себя в других сферах: дебаты, менеджмент и просто студенческая жизнь. А потом я встретила профессорку, с которой мне стало интересно работать, и пошла копать в сторону направления взаимодействия роботов и людей. За время работы в команде профессорки мы писали код для роботов, проводили эксперименты и наблюдали за тем, как дети взаимодействуют с роботами и учатся. После эксперимента началась более рутинная часть – анализ данных, написание статьи.
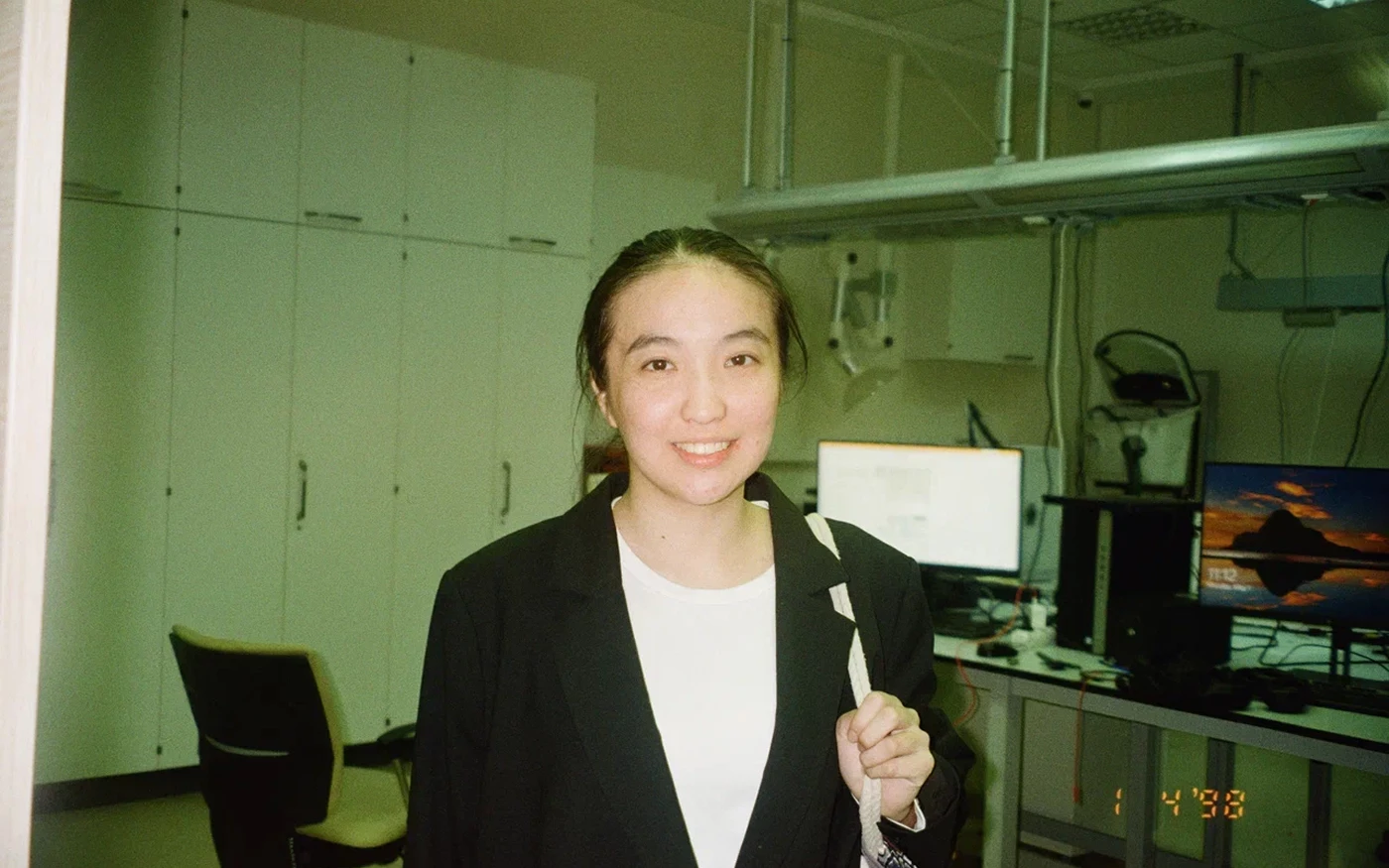

Во время этого проекта я как раз и начала интересоваться эмоциями. Я анализировала эмоциональные реакции детей во время взаимодействия и обучения. Тогда и появился мой вопрос: а что вообще происходит в мозге, когда мы учимся чему-то новому? Как эмоции влияют на этот процесс? Какие подходы есть и какой из них работает лучше всего? Так я начала интересоваться связью между эмоциями, мозгом и обучающими процессами, а со временем и ментальным здоровьем. Сейчас я учусь в Финляндии на программе Erasmus Mundus по специальности Brain and Data Science. Тема моей магистерской диссертации «Классификация эмоций с использованием мозговых сигналов и методов машинного обучения». Это часть большого проекта, направленного на поиск биологических маркеров эмоций и улучшение подходов к поддержке ментального здоровья. Как я уже говорила ранее, мне всегда нравилось наблюдать, как теоретические знания превращаются во что-то реальное и ощутимое. Именно это ощущение – видеть результат своей работы – до сих пор остаётся для меня важным. У меня нет мечты создать что-то недосягаемо гениальное или сделать революционное открытие, как это часто подразумевается в академии. Мне скорее интересно применять знания на практике – разрабатывать что-то, что может быть полезным и значимым для людей.
В Финляндии очень бережно относятся к балансу между работой и жизнью. Нет микроменеджмента, поэтому я не обязана каждый день приходить в университет – могу работать из дома или из любой точки мира, пока есть ноутбук и доступ к серверам. Я сама планирую своё время, работаю над задачами по диссертации в удобном ритме. Система образования здесь гибкая: магистранты могут брать курсы бакалавриата, а в одной группе могут учиться и 21-летние, и те, кому за 30. Присутствие на занятиях не проверяют – всё строится на твоей личной ответственности. Возможно, кому-то такой подход покажется «слишком расслабленным», но мне очень подходит. Главное – если ты действительно хочешь чему-то научиться, тебе дают для этого пространство.
В Финляндии никто не делает акцент на том, кто ты – парень или девушка. Может, потому что направление пересекается с психологией. А может, потому что здесь мужчины так же берут декрет, занимаются домом, и в принципе на пол особо не смотрят в STEM.
Я сама пока не сталкивалась с дискриминацией. И, надеюсь, не столкнусь. Но мужчин вокруг было больше – и в школе, и в университете, и в моей специальности. И, зная, что прямо сейчас какой-то девочке могут говорить «Зачем тебе учиться, всё равно будешь рожать», не удивляешься, почему так мало девочек встречаешь на своём пути. Мне, наверное, повезло. Я не росла в такой среде, и, может быть, поэтому мне было легче.
Хотя иногда у меня появляется ощущение, что я недостаточно умная для этой сферы. Что я не знаю каких-то базовых вещей, не умею что-то делать, что все остальные будто бы на шаг впереди. В такие моменты я стараюсь себя успокоить: не обязательно уметь всё сразу, всему можно научиться. И главное – я вообще не обязана знать всё и вся.
Наверное, потому что в моём окружении много сильных девушек и женщин. Мама, сёстры, женгешки, подруги – каждая из них чем-то занимается, учится, работает и строит карьеру. Я не стремлюсь быть исключением. Мне нормально быть одной из многих – пока я понимаю, что делаю, и получаю от этого удовольствие. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы женщин в науке (и в целом везде) было больше.
И сейчас, и во время бакалавриата у меня моими научными руководительницами были женщины, и я всегда искренне удивлялась, как они всё успевают. Совмещать преподавание с исследованиями уже тяжело, а тут ещё и дети, семья и студенты. В Назарбаев Университете я работала с Анарой Жумадиловой, которая изучала взаимодействие роботов и людей, публиковала классные статьи в высокорейтинговых журналах и каждый год отправляла студентов на международные конференции. Она действительно поддерживает молодых исследователей (особенно девушек), и это было очень важно лично для меня – особенно в те моменты, когда другие преподаватели могли требовать от студентов невозможного и сомневаться в студентах.
А сейчас в Финляндии я работаю с профессоркой по имени Тина. Она выпускница Оксфорда, которая вернулась в Финляндию, основала свою лабораторию и сейчас возглавила целый департамент. Помимо вот этой карьеры в академии, она успевает сотрудничать с разными компаниями и управляет несколькими проектами. И при этом она очень человечная – поддерживает, хвалит и понимает, как тяжело бывает учиться за границей. Это много значит. Глядя на них, я сама начала думать, что хочу стать профессоркой.
Идите за своим любопытством. Да, временами тяжело, но нет такой работы, где было бы легко всегда. Всегда придётся чему-то учиться. Всегда будут моменты, когда что-то не получается. Но если есть желание, то найдутся и деньги, и мотивация, и подходящие программы. Удача, конечно, не помешает. Но для начала достаточно просто пробовать. И идти вперёд, пусть даже не идеально. Не обязательно быть суперумной, не обязательно всегда всё сдавать на 100 баллов и не обязательно оправдывать все ожидания. Главное – делать по чуть-чуть. И продолжать.
Фотографии предоставлены героинями материала